Алина ВИТУХНОВСКАЯ
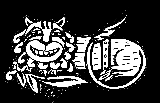
ЭССЕ О ЛИСЕ
КРОКАДИЛ – МЕТАКОД Метакод – это генетический код культуры. При всем разнообразии мировых цивилизаций в них одна и та же кристаллическая решетка. Только кристалл – живой, подвижный, постоянно мерцающий. Это ночное и дневное небо. Не губи меня, Вася Васильчиков! взывает хтонический Сет-крокодил. Но васильковый Вася неумолим: Отвечал ему Вася Васильчиков: В религиях и мифах все симпатии на стороне Горгеоргия и Васи-василька. Однако зороастрийцы, поклоняясь огню, поделили свет и тьму, добро и зло поровну. Два брата: Ормузд – бог Света и Ариман – бог тьмы правят по очереди 10 000 лет. Сейчас, разумеется, эра Аримана, но оптимисты видят свет Ормузда в конце туннеля. Солнце. Солнце я ненавидела с детства. За «пусть всегда будет», за «солнечный круг», просвечивающий сквозь раскрытые очевиднейшей фарфоровой смертью глаза расчлененных моим взрослением кукол. Черные занавески и свастики их гробниц… В ожидании грозы…
Я почти молилась в нецензурном каком-то метафизическом помешательстве: «Корней Иванович Чуковский, сделай так, чтобы тебя не было!» Но он был, как черный ус рифмованного Вреда, и создал Дикое про Крокодила, проглотившего солнце. Это яркое подтверждение неуничтожимости метакода. Меняются только знаки. Минус на Плюс. Вместо Вечной Жизни – Великое Ничто. Вместо грядущего Царства Света – Мировая Тьма. И обитатель темных глубин – всё тот же бессмертный крокодил. Я мастер по ремонту крокодилов… Это скрижаль Саши Ерёменко начертана в начале 70-х. В 1976 году я представил его позицию в ЦДРИ вместе с Парщиковым и Ждановым. А в 1996 году в «Известиях» появилась моя статья об Алине. В то время она была в чреве своего любимого крокодила-зверееда (Бутырки). Статья была озаглавлена строчкой из ее стиха: «Звереед приходит ночью». Константин КЕДРОВ + + +
Главный сюжет метакода – борьба тьмы и света: от древнеегипетского бога хаоса и тьмы Сета, который в образе крокодила заглатывает Солнце, до Змия, поражаемого всадником – св. Георгием Победоносцем на Белом Коне (Пегасе). В Древнем Египте в роли Георгия выступал Бог Гор. Он поражал копьем крокодила, поглотившего Солнце. В XX веке древнеегипетский «крокодил, который солнце проглотил» воскрес в поэме Корнея Чуковского. Крокодил воскресе! Воистину воскресе! В роли Гора-Георгия или Горгеоргия выступает небесновасильковый Вася Васильчиков.
Пожалей ты моих крокодильчиков, –
– Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков,
Но тебя, кровожадную гадину,
Я сейчас изрублю, как говядину.
Алина Витухновская видит в конце туннеля Великое Ничто – тьму: «Не надо нам солнца на млечном пути!». В своем «Эссе о лисе» (1999) она пишет:
Крокодил, Чикатило экологических расправ, Мерсо советской мультипликации, «всех этих плясок смерти имени Уолта Диснея».
Крокодил, патриот сакральной тьмы, дети ненавидели тебя, а сказочные твари зверей были готовы растерзать за адекватность бунта.
Я одна любила тебя, Шершавый Подводный Рыцарь, расчищающий путь к запредельной моей великой цели.
Не надо нам солнца на млечном пути!
…На пляже среди камней, водорослей и мертвых медуз я с ненавистью смотрю на своего небесного врага. Красным зрачком охуевшего светофора он приказывает мне стоять. Но грязные подошвы моих отрубленных мересьевских ног уже оставляют следы… И когда-нибудь пятна Великой Войны покроют побежденное пространство всех ваших картин Айвазовского. 300 кровавых пятен.
Крокодил-богоборец! Я чувствую, как горит твое горло. Солнце отрубленной головой кровавого мясника прожигает твою плоть. Почти насквозь. И запах сожженной кожи стал с тех пор моей неизбежной туалетной водой.
…взгляни на солнце, где на костре будущих инквизиций сжигают ведьму-меня (если ты представишь меня такую) за то, что я слизнула поцелуем несколько твоих крокодиловых слез.
Витухновская довольно часто цитирует футуристов, явно не подозревая об этом. «Главная задача – убить солнце», – пишет она в своем дневнике. Читайте пьесу Крученых «Победа над солнцем». Там это расписано во всех подробностях.
И все-таки интересно получается. Утопист Кампанелла, сидя в тюрьме, пишет свою тоталитарную утопию «Город солнца». Витухновская в постсоветской тюряге пишет антиутопию, где убийство солнца – одна из важнейших целей.
Крокодил Алины – то же самое, что ее «метафизический Гитлер». Женская ипостась этого хтонического чудища в сказке – Царевна-змея. Она же тьма-мать или мать-тьма из кругомёта Вознесенского ТЬМАтьМАТЬ.
Метакоду совершенно всё равно, кто победил. Гор или Сет. Солнце или Крокодил. Мировое Всё или Мировое Ничто.
Но нам не всё равно. Когда Сет-Крокодил-Чубайс веерно вырубает свет, мы все вооружаемся копьями Горгеоргия или машем игрушечной сабелькой Васи Васильчикова.
Давно замечено, что после Аушвица писать стихи безнравственно. Но тот, кто это сказал, не читал Алину. Она пишет не до и не после. Ее тексты – во время Аушвица. Она сама Аушвиц. Искать добро и зло в пекле человеческой топки не рекомендуется. Особенно во время интенсивной работы. А сейчас именно такое время.
Открыв метакод, я не могу быть Горгеоргием-солнцем, как Маяковский, или Сетом-Крокодилом. Я могу быть только мета-метанием между полюсами.
Крокодил у Достоевского проглотил одного либерала на Всемирной выставке в Хрустальном дворце. А тот как Иона вёл репортаж из чрева крокодила.
Хочу пойти в МГИМО.
Но я боюсь, что эту фирму
Не берут дебилов.
В Алине всемирный метакод ожил в первозданной чистоте и наивности. В самой фамилии Витухновской закодировано затухание Солнца. Она пришла, чтобы выключить свет, но не веерно, как Чубайс, а весь сразу.
Сейчас Алина Витухновская выступает за Подлинного Крокодила против недавно объявившегося крокодила профанического, постмодернистского. Сегодня Алина – это Вася Васильчиков.
Гвозди.
Магнитофон с музыкой ежедневной ритуальной смерти каких-то компьютерных подонков. Наложенные на нее женские визги. Возможные (и необходимые) при вивисекции.
А молоток он забыл.
Вместо молотка была железная лопатка.
Такие мы были правильные злые дети – игрались и не позерствовали.
Другие думали, эпатаж. Но чем можно эпатировать, когда есть жизнь?!
У памятника Маяковскому.
Выложили скальпы на асфальт (из черных целлофановых пакетов).
Забили гвоздями в землю.
Ухо блондина выделялось трогательно и очевидно, отменяя трусливо-психопатичное ухо Ван-Гога, забинтованное липкими щупальцами врача-гуманиста.
Некрофилически-порочный взгляд из толпы. Им нравится то, чего они боятся.
Сучий вой милицейской сирены.
Ничто не смущает и не трогает нас. Обыденно как котлеты в столовой. Скучно. Бесстыдно. Не аморально.
Настоящее преступление вопиюще непорочно. И, напротив, нравственное – развратно.
Недоуменно уже глядим на использованные, как будто смущенные чем-то куски плоти.
Парикмахер ада делает свои парики. Волосы с пятнами коричневой крови. Милитаризм от инферно-кутюрье. Червивый парик для отрубленной головы Медузы Горгоны…
Садимся в красный Мерседес крови, и, завернув за кинотеатр, врезаемся в грузовик. Автомобиль хрустнул недодавленным жучком. Магнитофон онемел. И отсутствие механических повреждений выглядело бы как знак, не будь мы цинично и окончательно равнодушны ко всем знаменьям и символам.
Магнитофон заработал, проявившись голосом Диаманды Галас, монотонно цитирующей куски из завещания Гитлера. Выключенный уже из розетки мозга музыкальный мутант не прекращал свою работу. Вечная Диаманда звучала с тоталитарной интенсивностью запредельного Левитана.
Без объявления безумия…
Владелец Мерседеса работал в банке, играл в казино и обанкротился. От него ушла самка жены. Остался лишь самец попугая, с которым он ежедневно пил водку из давно немытых стаканов.
Потом он просто исчез. Хотя, я помню, мы приходили к нему, звонили в дверь, нам отпирали, квартира оказывалась пустой.
Поговаривали, он умер. Но, скорее, полужил, призрачно, хитренько, психоделично, что, кстати говоря, гораздо надежней «просто жизни», той, что называют еще «полноценной».
А я знала, что все Просто Так, Просто Совсем, До Жути Просто. Ничего не значили ни мы сами, ни забитые скальпы, ни авария, ни Диаманда, ни попугай. Это я знала точно. Потом мы уехали на юг, в Семеиз. S.– отдохнуть. А я в надежде телесных мутаций. (Я всегда хотела Качественное Лицо. Сначала, в детстве, как у агрессивной бляди, темноволосой сучки убийств с обложки Пент-хауза, чье человеческое было успешно преодолено идеальным гримом и ретушью. Потом я потеряла ориентиры…) Стать Дорианом Греем и красивым наглым телом и злым абсолютом лица шляться по городу двуногих улиток дерьма, примитивно нравясь себе, с проданной кому угодно душой.
Души, кстати, у меня не было. Это я знала точно. Я не понимала, что люди называют «душой» – какой-то гибрид реакций между мозгом и нервами?.. У меня были мозг, нервы, Самость, Идея Себя. Но не душа. Иметь ее мне не хотелось как-то брезгливо-капризненько, так кокетливая девочка противится одевать уродующие ее валенки и телогрейку.
Душа представлялась мне чем-то омерзительно плотским. Но плотсткостью не нашей, привычной, а по-дурному Иной, какой-то лишней внутренностью, от которой человек глупеет, мельчает, и чуять начинает что-то не свое, потустороннее. Но не таинственно-загадочное, а болезненно-простое, шизофреническое.
Иногда казалось мне, души нет ни у кого. Душу выдумали, чтобы человека унижать, забавляться им, водить, мучить, да изучать, словно слепую овечку, покорную и податливую, как брынза (или изнасилованную девочку-дауна двух с половиной лет).
Я поселилась в центре Семеиза, а S. и А. в домике на горе.
Утром, преодолевая омерзение, я заставляла себя ходить на пляж.
Находясь в одиночестве, я не испытывала ничего, кроме ненависти, агрессии и скуки. Когда же со мной знакомились не особенно раздражающие меня существа, я немного отвлекалась (как казалось им «оживала»).
К сожалению, мой крайний эгоцентризм не соседствовал с самодостаточностью. И посему я была любопытна себе лишь в отражении чужого сознания. Мне становилось менее дискомфортно, Но лишь до тех пор, пока объект, воспринимавший меня не исчерпывался полностью. А это происходило быстро. Люди словно бы уменьшались, заканчивались. Я не ощущала их более, а следовательно, и себя через них. Человек блек, самость его стиралась. Лишь было тело, коробящее очевидностью изъянов, и некая основа, сущность, отчетливая примитивная ясность коей была сколь очевидна, столь же отталкивающа.
У меня не было более ни желания, ни энергии на продолжение контактов с этими бесполезными, бескачественными особями. Часто мне даже не удавалось вежливо завершить беседу. Я прогоняла их или уходила сама.
Статично-спокойненький человеческий темперамент, карликовость желаний, не соответствуя ни интенсивности моих переживаний, ни глобальности целей, порождали между мной и людьми глубочайшее эмоционально-идеологическое противоречие, трещину, расползавшуюся вширь со скоростью мгновенно получаемого мною опыта. Черную, слепую и абсолютно бесстрастную бездну. Это я знала точно.
Гений-романтик-параноик Ницше, создавший себе манию преследования, как всякий, кто отчаянно боится быть никому не нужным, мог мистифицировать ее, делая пафосной, функциональной. И он твердил, что бездна вглядывается в него. Твердил столь убедительно, что многие начинали чувствовать ее взгляд. И смотрели в нее словно влюбленные призраки, все, кроме героев песен Высоцкого, которые действительно куда-то падали…
…Может, будучи тотально невосприимчивой ко всему, кроме себя, не умела разглядеть в других ничего, помимо того, что делало их моими антиподами?.. Немногие казались мне своими. Тогда связи с ними становились долгими, интенсивными и мучительно-безумными. И агонизирующие вальсы нашей покалеченной любви отражались в циничных зеркалах литературных гинекологов. Посредством гиперреальных персонажей-двойников садо-мазо-фарса с репликами из Жана Жене. Издевательский паралич отравленного моего безумия в постановке провинциального гомоэрота.
Театр начинается с виселицы. И там, между повешенными на мехах Венеры и роскошных червивых кудрях своих Горгоны, я, глупая куколка на веревочках смерти, все вглядывалась на продолжающих играть персонажей. В своих… В своих?…
О, смешно, когда-то с аристократически-невинной робостью, клеймила я себя, полагая, что собственная моя неидеальность послужила причиной их мутаций и отчуждения. Но затем, озверев безжалостной честностью, поняла я, что независимо от моего поведения и обстоятельств, чужими оказывались все. БЫЛИ ЧУЖИМИ ИЗНАЧАЛЬНО.
Причиной же столь долгой дезориентированности было, скорее всего, то, что, разбираясь лишь в Простейших, коих мгновенно вычисляла, я тут же отвергала их, как человеческий хлам. А более сложные особи, схожие со мной хоть в чем-то, не подвергались столь быстрой и безжалостной расшифровке. И я была с ними ВЗАПРАВДУ, с наивностью, позорной для монстра.
Чужие
Эти звери моих фантастических явей,
Этих навранных личностей тени и их манекены
Как в иконы глядят в калипсольные глазки Мальвины.
Голоса Левитана на галстуках виснут Маккены.
Нагловатые пьяно
Винтовые калеки,
С костылями
От Кельвина Кляйна,
Что в постелях туманят
Свои осторожные члены
Невозможными строчками
Вильяма Блейка,
И кровавые мальчики
Тонут в бокалах глинтвейна.
Эротический шок
И нахальная нежность порока
Заменили интимное зло
Моей странной любви
В темноте идеального мозга.
Вы на подиум дна
Ускользнули калеками плоти.
Усмехнулась луна.
Замахнулись холодные плети.
И рыдающий сюр.
И смердящие рифмы поэта.
Холокост от кутюр.
И брильянты на трупы одеты.
Теперь, когда я знаю, что чужие – все. Я отдельная, не вступаю в подлинные контакты, теперь я более, чем когда-либо исчерпана для себя. «Слепая и глухая неблагодарная публика программы «В мире животных»» (Как говорил S.) не стимулирует вовсе.
И теперь, чтобы осознать себя в чужом восприятии, понадобятся массы, толпы. Но осознание это будет жалким, сиюминутным. И само желание отражаться в других не подлинно, а невротично. Ведь потребность в самосознании, самоощущении не первична. Она – лишь следствие навязчивого присутствия могущих оценивать меня. Их физическое устранение решило бы проблему. Поэтому я нуждаюсь не в любви, а в Войне. Мне быть банальной – нагло.
Солнце. Солнце я ненавидела с детства. За «пусть всегда будет», за «солнечный круг», просвечивающий сквозь раскрытые очевиднейшей фарфоровой смертью глаза расчлененных моим взрослением кукол. Черные занавески и свастики их гробниц… В ожидании грозы…
Я почти молилась в нецензурном каком-то метафизическом помешательстве: «Корней Иванович Чуковский, сделай так, чтобы тебя не было!» Но он был, как черный ус рифмованного Вреда, и создал Дикое про Крокодила, проглотившего солнце.
Крокодил, Чикатило экологических расправ, Мерсо советской мультипликации, «всех этих плясок смерти имени Уолта Диснея».
Крокодил, патриот сакральной тьмы, дети ненавидели тебя, а сказочные твари зверей были готовы растерзать за адекватность бунта.
Я одна любила тебя, Шершавый Подводный Рыцарь, расчищающий путь к запредельной моей великой цели.
Не надо нам солнца на млечном пути!
…На пляже среди камней, водорослей и мертвых медуз я с ненавистью смотрю на своего небесного врага. Красным зрачком охуевшего светофора он приказывает мне стоять. Но грязные подошвы моих отрубленных мересьевских ног уже оставляют следы… И когда-нибудь пятна Великой Войны покроют побежденное пространство всех ваших картин Айвазовского. 300 кровавых пятен.
Крокодил-богоборец! Я чувствую, как горит твое горло. Солнце отрубленной головой кровавого мясника прожигает твою плоть. Почти насквозь. И запах сожженной кожи стал с тех пор моей неизбежной туалетной водой.
…взгляни на солнце, где на костре будущих инквизиций сжигают ведьму-меня (если ты представишь меня такую) за то, что я слизнула поцелуем несколько твоих крокодиловых слез.
И я пила текилу, чтобы забыть про море, такое же лишнее, как остальной мир.
Потом плыла. Было неестественно гаденько. Но не ничтожной основой организма, и не ленивым (вовсе не ленивым!) телом, которое БЫЛО (но правильнее, если бы было только у меня).Нет, я испытывала идеологический дискомфорт.
Мне было плохо всегда. И ни доли мазохизма. Я не верю в мазохизм. Никто не хочет, чтобы ему было плохо. Это я знала точно. Но я не желала и чтобы хорошо. Получать удовольствие от отвергаемой реальности – предательство и безумие.
…Когда все были некрасивые и глупые, я спала одна, как в ту ночь.
Проснулась я от омерзительного звука, как если бы гнилая нутрь отдельной от человека челюсти, зашевелила мятым шершавым языком, пытаясь рассказать что-то о смерти моего (якобы) деда.
Жук лежал на спине, скребя конечностями по обрывку газеты, которая с пугающей быстротой, словно под рукой маниакального живописца, покрывалась коричневой жидкостью.
Мыши, жуки, пауки, черви, эти мелкие ползучие куски своим существованием (как бы) отдельно унижали человека. Они рождались и умирали, как люди, И внутренности их были схожи, И эта единая основа участи делала рассуждения об особой роли человека слишком странными.
Убивать мелкие ползучие куски мне хотелось гораздо меньше, чем двуногих. Не публика, и не конкуренты, мутные субстанции без явных свойств и целей, они лишь прохладной щекоткой страха, слабым его касанием, вяло травмировали мое нутро, не вызывая ни мыслей, ни определенных эмоций. Ничего кроме страха, скорее даже нечеткого подобия его. Но природа этого страха была та же, что и у мучавшего меня всегда. У меня вообще был только один страх, что я не главная (всевластная), что я есть следствие неких причин и что я не смогу отомстить. Но страх этот не ущербный, не жалкий, не постыдный. Правильный страх, необходимый для самоидентификации. Страх Героя.
Внутри меня не было ничего подлинного, кроме Глобальных претензий и этого страха. Остальное – сиюминутные производные яви, нечеткие, необязательные, зыбь, пыль.
…Я бы взяла, как микроб людской, перестала бы бояться, отказалась бы от амбиций, от Идеи Себя, свернулась бы калачиком, покатилась бы куда глаза не глядят, и отдалась бы миру, как миллионы других – без бунта, без протеста, лениво и благостно.
Но чтобы перестать бояться, надо окончательно струсить.
Жук шелестел, словно обертки мертвецких карамелек, словно ведьмины ресницы в пылесосе убийств, словно старуха, жующая осени высохших листьев сквозь похоти времени года. Шелестел с настойчивостью чудовища из романа ужасов. Впрочем, таким делало его мое тогдашнее восприятие. Ведь подобной настойчивостью обладают и обычные твари, движимые инстинктом самосохранения. (Романы ужасов создаются для слепых к жути яви людей. Их пугает лишь выдуманное. Испытывать страх от настоящего – свойства героев.)
От навязчиво-неумирающей твари становилось не по себе. Прихлопнув насекомое газетой и тяжелым ботинком, я закрыла глаза. Через минуту звуки раздались вновь.
Я еще раз ударила жука со всей силой тьмы. Теперь он не мог не погибнуть. Но… звучало еще громче и жутче. Как инфернальный вертолет, кишащий черными внутренностями доисторических монстров, липкими медузообразными субстанциями, с запахом выжженного вечным огнем влагалища Марлен Дитрих… Вертолет, упавший из ада в ад, с какой-то мучительно-несмертельной высоты. Уменьшенный в сотни раз до жалкого шестисантиметрового пятна вздутой слизи, с порнографически оттопыренными хищными стеблями жилистых конечностей, этот мутант, оборотень, полутруп с немыслимым, пугающим упорством сохранял в себе нереальный, запредельный потенциал сопротивления смерти. Вопящий, растекающийся, вымученный болью, он настойчиво поддерживал в себе жизнь, но делал это безотчетно, бесцельно, безмозгло, без малейшего намека на понимание самой функции этой самой жизни, лишь как Организм. Апофеоз Абсолютного Организма.
(Мне казалось, что весь мир таков, все люди таковы. Лишь изредка бывают они в сознании, в себе, иногда, в перерывах между какими-то специальными Пытками. А потом, лишь только Смерть, или что-то в этом роде, вновь обращаются в Анонимные Организмы. И терпят. Терпят. Или мычат.
А со мной такого не будет. Это я знала точно.)
Утром брезгливо обреченная, почти посторонней рукой несла жука на муторном обрывке газеты. Бросила на траву.
Вернувшись поздним вечером, я слышала Звук и видела Шевеленье.
…И вся эта дурная история не значила ничего.
Настойчиво-выживающий жук… Ну и что?.. Все равно он когда-нибудь сдохнет. Смерть омрачает Личное, но упрощает все остальное. Проще смириться с собственным исчезновением, чем с чужим бессмертием.
Это все к Лисе.
О Лисе рассказали S. и А. Я бы на их месте не стала – такая чепуха… Во всяком случае, не с таким пафосом.
Нет ничего проще, чем представить себе южную старушку, сдающую жилье. Все подобного рода дамы практически одинаковы. А мелкие разницы, коими они все же обладают, существуют как бы только для их внутреннего пользования. Остальным же их улавливать, в сущности, ни к чему.
S. и А. жили как раз у одной из таких старух, не обращая на нее особого внимания, покуда однажды, вернувшись с моря, не замерли от представившегося их глазам зрелища. Старуха, вырядившись в лохмотья, словно средневековая ведьма, безобразно распятая над собственным мозгом шершавым скелетом, явственно и монументально-дико возвышалась над горкой сена, пепла и грязного тряпья, давя газоны и горизонты огромной, отбрасываемой во все стороны свастики сторон яростной тенью не-себя.
При этом большой ржавой косой она одержимо-неистово и, в то же время, опасно-осознанно и сосредоточенно колотила по горке хлама, будто порола хаос.
И приговаривала распевно, отчетливо, громко, как заклинание: «Умри, Лиса, Умри!»
…То ли S. был чуток и по-писательски внимателен к жизни, то ли скучные курортные будни без приключений и даже без секса заставили его мозг зацепиться за то странное, выходящее за пределы пляжа и диких арбузных грузин…
Он был впечатлен. Ритуал с приговариванием к смерти мифической Лисы, явно находился за пределами обыденной реальности, не говоря уже о реальности города-курорта Семеиз. Лишь психическая болезнь старухи могла дискредитировать ритуал, утянуть его в область объяснимого. Но старуха была здорова, во всяком случае, ни до, ни после Лисей Акции она не вела себя хоть сколько-нибудь странно. «Значит, это Запредельность, осязаемое проявление того самого Иного, куда магнетически тянуло нас, других, посторонних, и унося все дальше из этого, обычного мира, лишая почвы, даже чуждой, так долго не проявлялось ни в чем, мотая нас из хаоса в хаос, пугая бесконечностью пустот», – так будто бы думал S. А что ему оставалось?
Но сейчас S. бредил о какой-то дурной старухе. Может быть даже зная, что это бред. Но лицо его выражало то же, что и раньше, когда мы говорили о Важном. «Ты понимаешь, Алина!» – тогда повторял он.
Только вдруг, впервые, я уловила в рассказе что-то подлое, метафизическую подножку, которую S. подставил мне, не будучи сам уверен в подлинности Иного. Я должна была верить, тем самым компенсируя его сомнения. Раньше, зомбируясь и мучительно очаровываясь обязательностью миров, а может и не ими, а самим S., который считаясь «своим», вызывал Абсолютное Доверие, я превращалась в его слушателя, адепта, в персонажа его сказок, лишаясь (и не желая) альтернатив. Но эта история с Лисой была полна лжи. Я слушала S., замечая в нем обычность, а в себе скептицизм. S. стал чужим, а я поумнела почти до смерти. Кончалось лето. Начиналось вечное одиночество. И когда S. завершил свой рассказ, волшебство закончилось навсегда.
Мне открылись все нехитрые фокусы псевдомагических имитаций, мотивы моего доверия и поводы его лжи. А собственная исключительность вызывала не гордость, не чувство превосходства, как прежде, а стыд. Все, что я ценила в себе, превратилось в позорную патологию. Все, кроме ненависти. Иное, Запредельное – я отвергла эти понятия навсегда.
Пусть метафизические наперсточники врут доверчивым глупцам.
Прощай, милый друг, книжный предатель, Я знаю, что Иное – дырявый атракцион для интеллектуалов-неудачников, потребителей фэнтези и психоделиков, трусливых личинок безопасного психического туризма, дезертиров Войны
Прощай, зрелый лемур! Я выросла из праздности, из игр, из порядочности. Пусти меня в одиночество, в предательство, в Войну!
Моя цель – абсолютное Ничто.
Я знаю это точно. И ничего не будет стоять на моем пути. И я ни на что не рассчитываю.
«Я поняла про Лису, это ничего не значит», – сказала я.
Я не хотела врать и быть милосердно-корректной: «Лиса – хуйня, абсолютная хуйня!»
Я чувствовала себя предателем и плевать на это хотела. Если по-человечески рассудить, предательством это и было. Друга предала из-за какой-то Лисы и Глобальной Идеи. Но с такими, как мы, разве по-человечески можно?
И S. остался сам по себе, и я сама по себе. Так было правильно. Так было честно.
А один мальчик, на вид лет шести, с лицом дауна, но одним очень умным глазом (левым) подслушал наш разговор. И уезжая из Семеиза, я увидела на заборе надпись: «Лиса – Хуйня».
Абсолютная хуйня.
УМРИ, ЛИСА, УМРИ
Промолчу как безъязыкий зверь.
Чтоб узнать, что у меня внутри.
Разложи меня как тряпочку в траве,
И скажи: « умри, лиса, умри».
Ржавым будущим по мне прошлась коса.
Полумесяц вынул острый нож.
Все сказали мне: «УМРИ, ЛИСА, УМРИ, ЛИСА».
Все убьют меня, и ты меня убьешь.
Посмотри в мои красивые глаза,
Я хочу тебе их подарить.
Помолись: «УМРИЛИСАУМРИЛИСАУМРИЛИСА»
ИЛИ САМ УМРИ И САМ УМРИ И САМ УМРИ.
Я затем даю себя убить,
Чтоб в шубийство кутаясь в мороз,
Ты бы мог рукой пошевелить,
Как когда-то шевелился хвост.
Перед зеркалом ты рыжий шерстяной,
Словно зверь с чудовищем внутри.
Ты однажды отразишься мной.
Я скажу тебе: «УМРИ, ЛИСА, УМРИ».