Сергей Герасимов
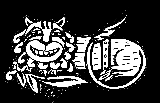
Валери – предел.
«…в начале Господь создал для каждого из людей свой особый мир,
и в этом-то внутреннем мире человек должен стремиться жить.»
(О.Уайльд из письма Роберту Россу, тюрьма Рединг 1 апреля 1897г.)
«Свет солнца всюду слеп, везде страшна луна…»
А. Рембо «Пьяный корабль»
«Вполне естественно, что лучшим умом нашей эпохи является поэт и что этот поэт – Валери», напишет о нем Андре Моруа в своих «литературных портретах» . Человек тварь становящаяся, а не ставшая, понявшему и принявшему эту максиму, гораздо легче оттачивать свое интеллектуальное мастерство в деле приближения к целому, таков Валери, пытавшийся схватить и продумать этот тонкий процесс, отрицающий любую однозначность в оценке человеческого бытия, человеческой истории, человеческой мысли и главное отрицающий любую грубость самой оценки. В его арсенале, отрешенность, должная холодность, смирение перед собственной фрагментарностью и трепетность по отношению к предмету изучения. Его выводы более чем парадоксальны, (о них в конце статьи), как впрочем, парадоксально само бытие.
Он родился в 1871 году, 30 октября в прибрежном городе Сет на юге Франции. «Родному порту, я обязан первыми ощущениями моего духа, любовью к латинскому морю и неповторимым цивилизациям, возникшим на его берегах. Мне кажется, что на всем моем творчестве запечатлелось мое происхождение". Наверное, это останется, навсегда, тайной, но по его собственному признанию «с девяти-десятилетнего возраста я начал воздвигать у себя в уме некий остров." Уникальность Валери как поэта, выразится в последствии в попытке соединить подвижную поэтическую стихию, проявившуюся в его сердце с этим неподвижным интеллектуальным «островом», который он воздвигал в своем уме.
Интерес к поэзии просыпается в нем чуть позже, к 13 годам, первые стихи датированы 1884 годом. Кстати 1884 год был поворотным для культурной жизни Франции, да и в целом Европы, включая Россию. В этом году Верлен публикует свой знаменитый сборник «Проклятые поэты», а Жорис-Шарль Гюисманс, ставший столь же знаменитым роман «Наоборот». В этом же году писатель Катюль Мендес печатает статью «Легенда современного Парнаса». Все эти публикации сделали возможным восхождение на культурном олимпе Франции, звезды Стефана Малларме который самым радикальным образом повлиял на творчество Валери, и который, по сути «благословил», его на поэтическое творчество. Благословил не только словом, но и своей жизнью, отданной на служение «чистой поэзии», служителем которой Валери оставался, до конца своих дней. Однако поэзия самого Малларме, настолько сложна и загадочна, что по выражению одного из его критиков «он (Малларме), не переводится на французский.» Но Малларме дал «силовой заряд», своему ученику, который позволил ему выстоять перед кошмаром, обрушившемся на мир в двадцатом веке, кошмаре который испанский философ Хосе Антонио Ортега и Гассет, назвал «восстание масс», и сохранить огонь подлинного искусства от варварского дыхания этих «масс». Сам философ так трактует сущность этой катастрофы: «Чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственпому человеку можно определить, масса это или нет. Масса - всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, "как и все", и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой - задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, - убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью, но не массой. В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства, какого угодно, сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, - это позднейший, вторичный результат особости каждого и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений.» Кстати, Ортега и Гассет аппелирует и к высказыванию самого Малларме: «Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.» Мы можем добавить, что подтверждая высказывание учителя, Валери был одним из тех немногих, кто своим присутствием в культурном пространстве Европы двадцатого века, спас это пространство от окончательного разложения.
20 октября 1890 года Валери пишет письмо Малларме, в котором просит совета относительно поэтического творчества, и прилагает два стихотворения. Ответ Малларме оказался в духе традиционного Сократовского метода. Как известно, Сократ считается мастером повивального искусства, то есть майевтики. Он помогал разрешаться от бремени, только не женщинам, а мужчинам, и рождали они не физическое дитя, а знание. Себе он отводил в этом процессе более чем скромную роль, уверяя всех, что сам он пуст и потому от него никто ничему научиться, не может, а каждый производит с его помощью лишь то, чем сам был чреват. «Дорогой мой Поэт, - отвечает Малларме, - главное, дар утонченной аналогии вместе с соответствующей музыкой, у вас есть... Что же касается советов, их дает только одиночество". Валери последовал совету, отныне он становится отшельником, и погружается в оттачивание и очищение своего фрагмента восприятия, методом которого служит поэзия и разум. Однако под разумом он понимает, прежде всего, триумвират возглавляемый мудростью, интеллект, знание, мудрость, но мудрость из них больше. Переоценка интеллекта и знания не контролируемых Мудростью, приводит к трагедии. Потому и трагически звучит парадоксальная фраза из его тетрадей: "Разум есть, быть может, одно из средств, которое избрала вселенная, чтобы поскорее с собой покончить". Итогом «затворничества» стал прозаический текст «Вечер с господином Тестом». В сознании современников Тест и Валери составлял один образ. Текст начинается со следующей сентенции: «Глупость не входит в число моих талантов.» Несколько самонадеянно, скажет читатель, но это лишь констатация истинного положения вещей, холодная и отстраненная, тем более, что возможно, слова «глупость» и «талант», использованы без малейшей тени иронии. О своем состоянии и настроениях той поры он напишет позднее: "Я был охвачен болезненной жаждой точности. Я доводил до крайности безумное стремление постигать, и я отыскивал в себе критические центры моей способности внимания. Не только литературу, но и почти всю философию отвергал я в числе вещей смутных и вещей нечистых, которые всем сердцем не принимал". Текст появился на страницах журнала «Кентавр» в октябре 1895 года. Даже близкие друзья обвинили его в отсутствии какой –либо «конкретности». Он с горечью пишет Андре Жиду: "Неужели они верят лишь в санкцию публики?" Публики, добрая часть, которой превратилась к тому времени в «массу». Действительно текст, столь изящен и изощрен, столь игнорирует любую проблематику «плоти», что для его понимания нужно «быть крайне осмотрительным и сдержанным, что бы ни осудить, как это случалось со многими, то чего не понимаешь». Эту цитату из «Воспитания оратора» Квинтилиана, Валери приводит в третьей части цикла просвещенного господину Тесту. Кто он, этот господин Тест? «Чудовище понимания», так характеризует его сам автор, одержимый поиском «чистого Я» (le moi pur), путь к которому лежит через постепенное освобождение от всего, что подвержено биологическим изменениям и распаду. Возможно этот текст, стал также результатом таинственного случая произошедшего с Валери осенью 1892 года. Эту осень он проводит у своего дяди в Генуе. Внутренняя депрессия, вызванная ощущением полной бессмысленности царящей в литературе, и нереализованной романтической страстью к некой незнакомке, которую он постоянно встречает на улице, но так и не решается на знакомство, приводит к решению навсегда отказаться от литературной карьеры. В ночь с 4 на 5 октября кризис достигает высшей точки. К этому таинственному переживанию, захлестнувшему его душу в ту памятную ночь, он будет возвращаться всю оставшуюся жизнь. Он решает покончить со всяческим «романтизмом» в себе, а также с "идолами" в сфере эмоций и языка, которые создают видимость проблем и препятствуют "чистому" функционированию мысли. Отныне его жизненная задача: поиск единого интеллектуального метода, «математики интеллекта», по его собственному выражению. Вернувшись, домой в Монпелье, он раздает друзьям все свои книги, он будет читать теперь только то, что связано с его интеллектуальными изысканиями. История, художественные романы, и т.д., вызывают у него чувство напрасно потерянного времени: «События - это пена вещей меня же интересует море"», напишет он впоследствии. Для познания «моря», необходим «метод» и Валери приступает к его выработке. Каждое утро он встает до рассвета и несколько часов колдует над листом бумаги, добиваясь максимального соответствия слова и мысли. Эта привычка останется у него на всю жизнь, и эти часы он будет считать главными в своей творческой реализации. В поисках единого метода он обращается к самым различным темам: проблемам языка, сознания, искусства, возможно и тайного, (следствие влияния Малларме), истории, психологии и т.д. В центре всего остается размышление о природе человеческой мысли, ее возможностях, границах, механизмах, размышления о возможностях своего фрагментарного мыслительного метода. Однако его поэтическая сущность разрешает возможность свободного соединения противоположностей. Столь абсолютное преклонение перед «методом», даст впоследствии перспективу видения и его оборотной стороны: "Следуя лишь одним предписаниям неумолимого метода, человек приходит в истории к тотальной войне и методическому истреблению", ведь столь строгое следование методу, объясняется столь же неумолимой целеустремленностью заканчивающейся всегда крахом, это сфера титанов, но не богов, а ведь Валери - поэт, служитель этих последних, чей основной критерий - мера.
Валери перебирается в Париж. Здесь он регулярно посещает знаменитые «среды» Малларме, где бывали такие значимые фигуры как Дебюсси, Анри де Ренье, Жид, Марсель Пруст, Йетс, несколько раз появлялся блистательный Оскар Уайльд. Но, увы, «душа на земле постороннее», как напишет его собрат по цеху Георг Тракль. 9 сентября 1898 года душа Малларме покинула свою телесную оболочку. На похоронах Валери едва начав говорить, замолкает, его душат рыдания. Вечером он записывает в дневнике: «Найти. Достичь предела. Суметь описать свою мысль. Поставить на место всякой вещи определенную формулу или выражение некой серии интеллектуальных операций». Понимал ли он, что Малларме это точка в том поэтическом дискурсе, который начал Бодлер? Что написать лучше уже не возможно, да и не надо, теперь подошел черед другого, и поэтому писать надо по-другому. С полной уверенностью можно сказать, да понимал. Двумя годами позже после перечитывания Малларме он напишет жене: «"Мне кажется, что состояние цивилизации, которое вынашивало, оправдывало, диктовало эти крайности, уже в прошлом... " А впоследствии уже незадолго до смерти он выскажется еще более определенно: "Что касается испытанных мною влияний, наиболее глубоким было отнюдь не влияние Малларме: несколько строк По, музыка Рихарда Вагнера, представление, сложившееся у меня о Леонардо, и длительные размышления вкупе с научной литературой сыграли основную роль в развитии моей мысли. Малларме, разумеется, занимал огромное место в моей внутренней жизни, - но место особое: гораздо больше был он для меня проблемой, нежели откровением. Он был - он, никогда не объяснявшийся и не терпевший никакого учительства, - несравненным возбудителем". Критики часто сходятся на том, что Валери не разделял неоплатонических тенденций учителя и вообще символизма как такого, не разделял «демиургических» притязаний Малларме и обожествление литературы. (В.М.Козовой. комментарии к сборнику П.Валери «О искусстве»). Довольно сильное заявление. Но хотелось бы высказать и другую точку зрения. Валери будучи гениальным поэтом, даже не чувствовал, а знал, Малларме «непреодолим», нужен свой путь и это не отрицание метода учителя, а иное. Основываясь на системе философа Анри Бергсона, с которым был довольно близко знаком он, выстроил свой поэтический курс действительно отнюдь не в контексте основной Платоновской парадигмы, небесная идея и ее проекция на земле, а в контексте системы Бергсона. Бергсон утверждает в качестве подлинной и первоначальной реальности жизнь, которая, пребывая в некой целостности, отличается от материи и духа. Материя и дух, взятые сами по себе, являются продуктами её распада. Основные понятия, с помощью которых философ определяет сущность «жизни» — «длительность», «творческая эволюция» и «жизненный порыв». Жизнь не может быть схвачена интеллектом. Интеллект способен создавать «отвлечённые» и «общие» понятия, он — деятельность рассудка, а воспроизвести реальность во всей органичности и универсальности, можно только воссоздав её. Это под силу лишь интуиции, которая, будучи непосредственным переживанием предмета, «внедряется в его интимную сущность». Только самонаблюдению подвластна непрерывная изменчивость состояний, «длительность», а, следовательно, и сама жизнь. Человек находится на самом острие творческой эволюции, причём способность осознать всю её внутреннюю мощь — удел избранных, своеобразный «божественный дар». Это объясняет элитарность культуры. Итак, основной закон поэтической реализации Валери «самонаблюдение», которому подвластна «непрерывная изменчивость состояний». Схватить саму пульсацию жизни как таковую, вот его задача. Недаром в контексте размышления над этой проблемой он напишет: «Мысль маскирует мыслящее. Эффект скрадывает функцию. Творение поглощает акт. Проделанный путь поглощает движение.» Впрочем, размышления о «преодолении» Малларме и другого, который также, но сугубо по своему сделал «все» в поэзии – Рембо, остается. Об этом свидетельствует краткая дневниковая запись 1927 года, которую каждый волен интерпретировать по - своему: «Рембо – предел», хотя к этому году Валери уже признанный мастер, член французской Академии.
Двадцать лет, с 1897 по 1917 он ничего не публикует, однако Жид настаивает на издании сборника, его старых стихов и прозы, это происходит в 1913. Он идет на авантюру решив добавить к написанному небольшое стихотворение, которым думает распрощаться с поэзией. «Я хотел написать вещицу в 30-40 строк, и мне слышался какой-то речитатив в духе Глюка - как бы одна длинная фраза, написанная для контральто». Упражнение растянется на четыре года, из множества набросков и эскизов, родится поэма в четыреста с лишним строк, которую он назовет «Юная Парка». Напомним, что Парка, богиня судьбы в римской мифологии. Их три: Нона— тянет пряжу, прядя нить человеческой жизни, Децима— наматывает кудель на веретено, распределяя судьбу, Морта— перерезает нить, заканчивая жизнь человека. Какую из трех имеет в виду Валери, остается непонятным. Неясно и то, может ли быть у богини период, именуемый у людей юностью. «Первоначальная тема "Юной Парки", пишет русский комментатор Валери, Вадим Козовой, сознание в его бесконечной изменчивости, которое пробуждается и созерцает себя в пробуждении, вновь погружается в сон и снова находит себя, тянется к высшему свету и страшится испепеляющей смерти. Но эта тема рождает другую - и Валери вынужденно убеждается в этом. Поэма рисует, с другой стороны, волнения плоти, тревожимой силами эроса, стихийную силу, которая уносит героиню к границам жизни и смерти». Строго говоря, задачи, которые ставит перед собой Валери почти не выполнимы: чистое созерцание жизни как таковой, чистая поэзия, чистый интеллектуальный метод…Сама стихия поэмы как бы вырывается из его рук, и он оказывается заложником противоборства «анализа и экстаза». В 1917 «Юная Парка» появляется в печати: «Ее темнота, - писал Валери, - вывела меня на свет: ни того, ни другого я не добивался».
«Юная Парка», дала толчок к продолжению поэтического творчества. Внутренне он пытается отстоять позиции интеллектуального рационализма в творчестве, пытаясь отрицать вдохновение, как необходимое условие последнего, запись в тетради: "Высший человек не тот, кто наделен неким даром, и кто выносит это богатство вовне, но тот, кто организовал себя во всем объеме своего существа". Но эти притязания, противоречат его собственной природе, поэт и вдохновение неразделимы. После написания «Морского кладбища», тема которого, «диалог между бытием и сознанием», второго шедевра в его творческой жизни, после «Юной Парки» он смиряется и делает признание в дневнике: «Счастье... И не будет больше для вас ни дней, ни ночей, ни рассеяний, ни занятий, ни фактов, ни теорий, но только Рядом и Далеко, Встреча и Разлука, Согласие и Разлад". «Морское кладбище», явилось причиной знакомства с другим титаном европейской поэзии двадцатого века – Рильке. Рильке, двигавшийся своим уникальным курсом в поэтическом море, просто не знал французского затворника, в связи с его полной игнарацией так называемого общественного признания. (Имя Валери становится известным широкой публике лишь в сорок шесть лет). Прочитав «Морское кладбище» Рильке записывает в дневнике:"Я был одинок, я ждал, все мое творчество ожидало. Однажды я прочел Валери, и я понял, что моему ожиданию пришел конец". Он переводит Валери на немецкий, между ними завязывается переписка. 13 сентября 1926 года, Валери проводит целый день в гостях у Рильке, на берегах женевского озера в замке Мюзот, подаренный ему друзьями. Об этой встрече, почти перед смертью немецкого гения, его не станет 29 декабря, Валери напишет: "Какие минуты свободы, отзвучных даров - эти минуты последнего сентября его жизни!.." По сути, это была встреча двух равновеликих титанов поэзии двадцатого века, создавших столь разные и столь совершенные поэтические вселенные.
Наблюдая ситуацию двадцатого века и нарастающую «активность масс», Валери пытается осмыслить извечный антагонизм знания и бытия. В итоге из под его пера выходит замечательный очерк- диалог «Навязчивая идея», в котором он пытается осмыслить образ бытийствования буржуазной цивилизации. Вот основные критерии, по его мнению, составляющие этот «образ»:"болезнь активности", «всеобщий автоматизм и нарастающее ускорение жизни приводящие к тотальной нивелировке и угрожающие той самой "свободе духа", тому "высшему благу", следствиями которого являются». Сам феномен так называемого «развития» понимаемого как внешний, так сказать количественный процесс, подвергается здесь жесткой критике. Действительно если следовать ортодоксальной христианской теологии Ева могла и не откусывать от пресловутого плода познания, а следовательно история человеческого рода, если в данном случае можно говорить об истории, имела бы совсем иное «развитие». Во первых она могла бы не носить на себе бремени проклятия за совершенный грех прародителей, во вторых, даже находясь под этим проклятием люди вольны были бы выбрать совсем иной путь развития своей цивилизации, например отвергнуть техническую составляющую и сосредоточиться на духовной. Подобные высказывания вполне легитимны, так как христианская теология не знает никого детерминизма. Строго говоря, отталкиваясь от «догмата» абсолютной свободы лежащей в учении, принесенном Христом, любой эпизод человеческой истории имеет бесконечное множество сюжетных развитий, и если что-то произошло именно так, а не иначе, это лишь одно из проявлений этого множества. Интересно, что наш «последний философ» Лосев в своей знаменитой «Диалектике мифа» высказывает похожие мысли, но разумеется, по своему их интерпретируя, в данном случае он является поклонником феодального строя в организации социума. Он пишет: "Естественнее всего было бы человечеству, если уже стоять на ступени феодализма, то и продолжать так дальше стоять, усовершенствуя недостатки, проистекающие из естественных недостатков человеческой природы. Но не все естественное реально и не все естественное желательно человеку». И далее, непосредственно о технике и ее приверженцах, механицистах: "В машине есть нечто загубленное, жалкое и страдающее. Когда действует машина, кажется, что кто-то страдает. Машина - не целомудренна, жестока, внутренне опустошенна. В ней какая-то принципиальная бездарность, духовное мещанство, скука и темнота. Есть что-то нудное и надоедливое в потугах машины заменить жизнь. Она есть глубочайший цинизм духа, ограничение средними штампованными и механическими вещами. Сердце говорит, что когда действует машина, кого-то родного, близкого бьют по лицу. Машина - антипод всякого творчества, удушение живого ума, очерствение и потемнение чувства. Кто-то здесь проливал слезы и убивался, как плачут и страдают на могиле дорогого покойника. Могилой и мещанством, завистью на все гениальное и человеческое веет от машины. Машина неблагодарна и груба. В ней видится озлобленное лицо бездарного мещанина, захотевшего, при помощи кулаков и палки, стать гениальным. Машина - остервеневшая серость духа, жестокая и лживая, как сам Сатана. От нее темнеет на душе и тяжелеет в груди. Хочется бежать от этого чудовища и ничтожества, одновременно, бежать, закрывши глаза и закрывши уши, бежать неизвестно куда, лишь-бы скрыться от этого человеческого самооплевывания, от этого духовного смрада и позора, от этой смерти. Хочется воздуха, воды, синего неба, хоть одного кусочка синего неба. Хочется в пустыню, в отшельничество, на край света, только-бы не видеть этих колес, этих труб, этих винтов, не слышать этого собачьего лая автомобилей, дикого звериного вопля трамвая, не дышать этим сатанинским фимиамом фабрично-заводского воздуха. Самодовольное пошлячество физика и естественника, уверенного, что души нет, а есть мозг и нервы, что Бога нет, а есть кислород, что царствует всеобщий механизм и его собственная ученая мещански-благополучная, дрянненькая душонка, вся эта смесь духовного растления и бессмысленного упования на рассудок, есть одно из самых ужасающих чудовищ. Это та дебелая, краснощекая бабенка, которая сидит на телеге и весело щелкает орехи, когда - в известном сне Раскольникова - производится истязание несчастной клячи и ребенок прильнул к издыхающей, истекающей кровью лошади и в слезах обнимает и целует ее голову. Так истязуется и распинается истина в человечестве и немногие в слезах и духовной скорби окружают ее, отдавая последнюю дань любви и преданности."
Да, человеческая история сложилась так, а не иначе, но возможность этого «иначе», пусть даже на подсознательном уровне дает ту энергию горечи, энергию трагедии, выразить которую, в состоянии только искусство через своих служителей. Не заключена ли в этом одна из тайн, быть может главная, связанная с феноменом искусства в человеческом бытии?
Не надо думать, что буржуазная эпоха, или если угодно, эпоха восстания масс изувечила только светский аспект жизни социума. Разумеется, что и сакральный, религиозный аспект тоже подвергся деформации. Превращение Церкви в институт обслуживающий позитивистскую мораль буржуазии приводит к тому, что подлинные служители духа подлинные художники ищут «своего Бога» соответствующего их представлению об истине, и отказываются от «Бога толпы». Это тоже трагедия и она тоже имеет своих мучеников:Гельдерлин, Бодлер, Рембо, Ницше, Уайльд, Тракль, у нас Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, Цветаева. Валери если можно так сказать более спокоен, более холоден и взвешен, быть может, менее ангажирован желанием «воздействовать», «привнести», «изменить ситуацию», он конструирует свою вселенную, ведь о внешней радеет Бог. «У меня не литературная цель. Моя цель заключается в воздействии не на других, а на себя - Себя, - поскольку "Я" может себя рассматривать как произведение... разума" .После выхода в 1922 году сборника "Чары" в одночасье сделавшего его самым великим поэтом Франции, он жалуется Андре Жиду, инициатору выхода в свет этого сборника: "Хотят, чтобы я представлял французскую поэзию. Во мне видят поэта! Но мне плевать на поэзию. Лишь поневоле я ею интересуюсь. Только благодаря случайности писал я стихи. Я был бы в точности тем же, если бы их не писал. То есть обладал бы в собственных глазах тою же значимостью. Это для меня совершенно несущественно. Что для меня существенное - я хотел бы это сказать. Я верю, что смогу, что смог бы еще это сказать, будь у меня досуг и покой... но я не принадлежу себе больше. Жизнь, которую я веду, меня убивает". «К своему общественному положению он втайне относится с иронией, доходящей порой до сарказма. Даже в старости, даже будучи академиком, почтеннейшей фигурой, осыпанный наградами, принимаемый королями, правителями, окруженный и прославляемый цветом интеллектуальной Европы, он "терпеть не может серьезных людей", не принимает всерьез "Человека с положением", "Господина". Человек поразительной скромности, чуждый всякой рисовки, он любит издеваться над своим двойником - "клоуном, зубоскалом, который исполняет свой трюк, как умеет"» (В. Козовой. Комментарии к сборнику «П.Валери. О искусстве.») Он хочет восстановить главное условие, лежащие в основе отношений человека и Бога – свободу. В письме священнику Жийе, выпустившему работу "Поль Валери и метафизика" он пишет: «Что касается веры - как сказать? Я ее не ищу и не избегаю. Я стремлюсь выработать о ней четкое понятие. Мой Бог обладал бы величием души, позволяющим ценить тех, кто в него не верит.»
В стихотворении «Набросок змея», где речь большую частью ведется от лица сатаны готовящемся соблазнить первую человеческую чету, сам акт творения называется «заменой ничего на что-то», а «вселенная зерно дефекта, в чистоте небытия», далее по восходящей
«Гармонией пресытясь чистой,
Господь пошел тропой тернистой:
Зажёг различных звёзд семью,
Светила многие содеял,
Нарушил принцип — и рассеял
Единость вечную свою!»
Но если бы Он ее не рассеял, то как бы мог существовать сам сатана ведь:
«Господь, в безумстве, первым словом
Промолвил — «Я»!
— Светилом новым
Тогда же появился я:
Я есмь! Да послужу отныне
Преуменьшенью благостыни
Божественного бытия.»
Валери считает, что когда Господь сказал Свое первое Слово, которое было «Я» (Христос), то есть разделился, если так можно выразиться на Отца, Сына и Святого Духа, в этот же момент был сотворен «светилом новым» Люцифер, который после отпадения будет вредить Богу, за то что Тот осознал Сам Себя, произнеся Слово, когда же этого не было, то существовала «чистота небытия», которая есть лучший из всех уделов.
Очевидно в понимании поэта «чистота небытия» и не осознавший Себя Бог это одно и то же. Ересь или бред скажет верующий христианский читатель, ведь Бог был Троицей вечно, и здесь едва ли можно что-то возразить, но это точка зрения поэта и мы вынуждены привести ее как она есть. Стихотворение заканчивается таинственно и парадоксально. После того как «змей» осуществил свой замысел и торжествует, в конце абзаца наконец появляются две строчки сказанные не от его лица, а от лица не то самого поэта, ни то от лица Бога:
«Я — змей великий, я пою,
Шиплю в листве, в небесной сини
Победу праздную мою,
Триумф печали и гордыни
Вот — пища людям навсегда,
Ошметья горького плода,
Убоги, перезрело-желты...
— Змей, сколь пуста алчба твоя!
До ранга Бытия низвел ты
Могущество Небытия!»
Быть может это стихотворение, есть результат того, каким был вообще механизм восприятия Валери: "Я мыслю, как сверхчистый рационалист. Я чувствую, как мистик". Так писал он о самом себе.
Итак фрагмент восприятия данный каждой человеческой душе, для попытки приближения к целому. Наполнить его до краев. Валери пытался это сделать всю жизнь, помимо этого он пытался выработать метод, с помощью которого можно совершить наполнение. В начале статьи было сказано, что выводы, которые сделал поэт к концу своей жизни более чем парадоксальны, напомним как и парадоксально само бытие. Предоставим сказать об этом самому Валери, вот несколько из них: "Нужно расти. Но нужно также всю жизнь хранить в себе Ребенка. Посмотри на окружающих - тех, в чьем взгляде ничего не осталось от детства. Вот как это узнается: их взгляд отчетлив, когда предметы отчетливы, и расплывчат, когда предметы расплывчаты и безымянны... ". Далее:"Оставайся спокоен. Гляди бесстрастно. Почему? Потому что это спокойствие и это бесстрастие воспроизводят устойчивость, а также и время, которое от всего очищается. Человек бесстрастный обладает амплитудой века. Гнев, наслаивающиеся эмоции порождают в итоге только банальность. В конце концов, ничего никогда не было. Не теряй из виду это конечное и несомненное ничто. Пусть некий знак - некая вытянутая горизонталь - остается глубинным фоном твоих сокровенных движений и метеоров". Не за долго до смерти делая доклад о любимом Вольтере говорит: "Быть может, - если мне позволено будет завершить этим речь о нечестивце, - он бы вспомнил несравненное благородное слово - самое глубокое, самое простое, самое точное слово, изреченное некогда о человеческом племени и, следовательно, о его политике, развитии его знаний, o егo учениях и конфликтах; быть может, он пробормотал бы очевиднейшую сентенцию: "Они не ведают, что творят". И наконец, последняя запись в тетради перед смертью, сделанная 31 мая 1945 года, им всю жизнь восхвалявшего разум, отвергающего аспект вдохновения в поэзии, им желавшем быть холодным и отрешенным математиком интеллекта: "В чем подвожу я себе итог. Я чувствую, что моя жизнь завершена, то есть не вижу в настоящем ничего, что нуждалось бы в завтра. Оставшаяся жизнь может быть только пустой тратой времени. В конце концов я сделал все, что мог. Я знал свой разум достаточно. Знал я и свое сердце. Оно торжествует. Сильнее всего - разума, организма. Это - факт. Самый темный из фактов. Значит, сильней воли к жизни и способности понимания -это неисправимое Сердце... "
20 июля пришла смерть. По настоянию де Голля Валери устраивают национальные похороны. Его тело везут туда, откуда он начал свой путь - в приморский Сет. Хоронят на городском кладбище, давшем названию одному из его шедевров «Морскому кладбищу», так как кладбище города Сет расположено на морском берегу. На его могиле выбивают эпитафию, взятую из этого стихотворения "О воздаянье после размышленья - Взор, созерцающий покой богов!" Размышленья окончившегося признанием парадокса лежащего в основе бытия.